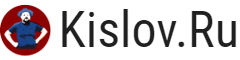Обратное течение
Так, всё, конец, подумал он. Берег удаляется, ему заливает глаза, как в детстве, когда бабушка моет тебе голову над алюминиевым тазиком в тенистом дворе, но ты сто лет не вспоминал это, почти никогда. Идея забраться поглубже, по шейку, принадлежала сыну, мальчик бросил ему мяч и крикнул «давай, давай», загорелый среди прибрежных барашков прилива на фоне ускользающего океанского пляжа. Спустя минуту тебя потащило прочь, в открытое море, песок уплыл из-под ступней, почти сразу стало холодно, а суша на закате начала таять, скрываясь из глаз. Риповые или отбойные течения, тягуны, он читал о них, но никогда не предполагал, что это может случиться с ним. И всю жизнь он не боялся ни слёз, ни драться, ни быть пьяным вдрызг, когда летишь в преисподнюю и асфальтовая лужа вдруг ударит тебя в лицо, ослепляя. Сына уже почти не было видно, а спасатели после шести вечера уже кутят в кафе напротив старой тюрьмы, возвышающейся над взморьем, как храм безверия. Ждать неизвестности — самое честное занятие, сказал он себе почти вслух, глотая растворённую морскую соль в незнакомой волне вроде бы такой райской Астурии. Теперь поток увлекает его всё дальше от земли, превращающейся в тонкую песчаную нить. Его брат тоже утонул, в татарской реке, но никто не скажет — несчастный ли случай или суицид, а отпевать его отказались, и потом батюшка разрешит подарить церкви даже не деньги, но кусок ткани в память об облачении Христа, которое раздербанили стражники. Помолясь внутри, без перстов, он перевернулся на грудь и снова пытался плыть на самом краю тьмы, ища опору, противясь тяжёлой воде, что лишь отталкивала, не щадя и не даруя надежды. В дедушкином, бабушкином доме пыльное солнечное лето занимало тебя, как океан, напоённый звоном осиных гнёзд до боли в том месте, где темя, объятое ныне водорослями, поднявшимися из глубины. Время — та же вечность, только короче, думал он, без выхода отдаваясь течению, когда не за что зацепиться. Во дворе был бассейн, вырытый в глине и отделанный гладкой метлахской плиткой, два на шесть, зимой дед разводил в нём зеркального карпа, а летом вместе с жуками и мокрицами тут купались дети. Эх, далеко не заплывёшь, ворчал брат Андрей, барахтаясь в июльской воде меж зеркальных стен под виноградниками, двенадцатилетний нарцисс, но дед вскоре забросил свой дом и умер, не достигнув старости, а спустя пару лет всё стало сыпаться — и в истории, и в себе. Через несколько минут что-то снова приподняло его, дав отдышаться, хотя и увлекало всё дальше. Есть ли ещё время? Бабушка ушла из своей жизни, едва успев испечь пирожки на день рождения умершей дочери, а горлица всё ворковала с раннего утра на форточке в маленькой комнате главного дома, выстроенного в тридцать шестом и проданного через пол с лишним века корейцам, немцам, евреям, узбекам. Никто теперь не найдёт её могилы среди каменистых дыр на дне миллионолетнего залива. Да может ли кого-то поддержать чужая смерть? Соль царапает глаза, а небо качается, как заводное, и блики плывут по воде, бесстрастные, как тени ангелов. А вот ты ловил голубей на «палку и верёвку», тяжёлое решето разбивало в кровь их головы, что отправлялись на мусорку, в компанию новорождённых и дохлых котят на самой окраине захудалого микрорайона возле скрипучей водокачки. Лет через двадцать ты вернулся туда, в родительский и сонный плен, попросил показать двор за заборами; следы бассейна, сегодня по горло заполненного прахом, терялись в скошенной сирени, сохранялся лишь абрис летних теней, но правила всем неприкрытая утилитарность жизни. Поверхность плыла вместе с ним, а страх наступал откуда-то сверху, как будто сами духи святых предков командуют твоей случайной кончиной. Вспомни, совсем недавно ты так же рыдал, задыхался, когда звонил отцу с московской улицы, сидя на скамейке перед музыкальной школой с пузырём коньяка в правой руке, мобильником в левой и аритмией где-то посередине. Папа, сколько тебе осталось, месяц, два, три? Ветер гонит бессчётные волны, и если бы не они, было бы проще: лежать на воде, радуясь лёгкости собственного тела. Каждый глоток убивает, каждая волна грозит быть последней, это как арпеджио, что накатывает своей безусловностью и дешевизной приёма. Водятся ли тут медузы-clavel, гвозди́ки, которые жалят свою жертву ближе к сердцу, в грудь, где ты который год пытаешься изжить остатки своей матери, мучительно умиравшей той ташкентской осенью? Тогда ты нашёл выход: тройная доза морфина на ночь, притулился рядом на матрасе, проснёшься от её вздохов, а в последний момент она пожмёт плечами без сил, удивляясь нелепости исхода. Соседки не узнали пятидесятилетнюю старуху в её гробу, придя попрощаться, эти толпы запоздалых чиланзарских волхвиц, полые куклы в своих сарафанах. Потом полил дождь, а он накурился и сел на измену в тот момент, когда все под занавес перешли к трапезе, словно чего-то стесняясь и сторонясь ответа. Но теперь соль разъедает ему губы и кожу, потоки уносят его всё дальше вместе с его провинциальной спесью и слезами впопыхах, как в фильмах Нового Голливуда. А в рассказе, который он не закончил, всё было фальшиво, как плач слабоумного («камера, недоумевая, уплывает на задний план, даруя всему происходящему право на добровольные страдания»). Солнце и облака истекают зелёной желчью. Придонная муть взывает к тебе. На своей плёнке ты ещё раз, снова и снова хоронишь без порядка дедушку, брата, мать, бабушку и отца, словно крайний или запасной в иссякающем роду, как оборванная нить семейного изъяна, чёрный выкидыш почти чужой любви. Этот уголь поколений где-то в предсердии — сказал он сам себе зачем-то ещё раз и затем сдался, валясь набок, бессильно опускаясь вниз, в мягкую воду, в волну, которая толкала его тонущее тело к берегу на горизонте, к началу другой земли.
Опубликовано в № 49 сетевого альманаха TextOnly, август 2019 г.